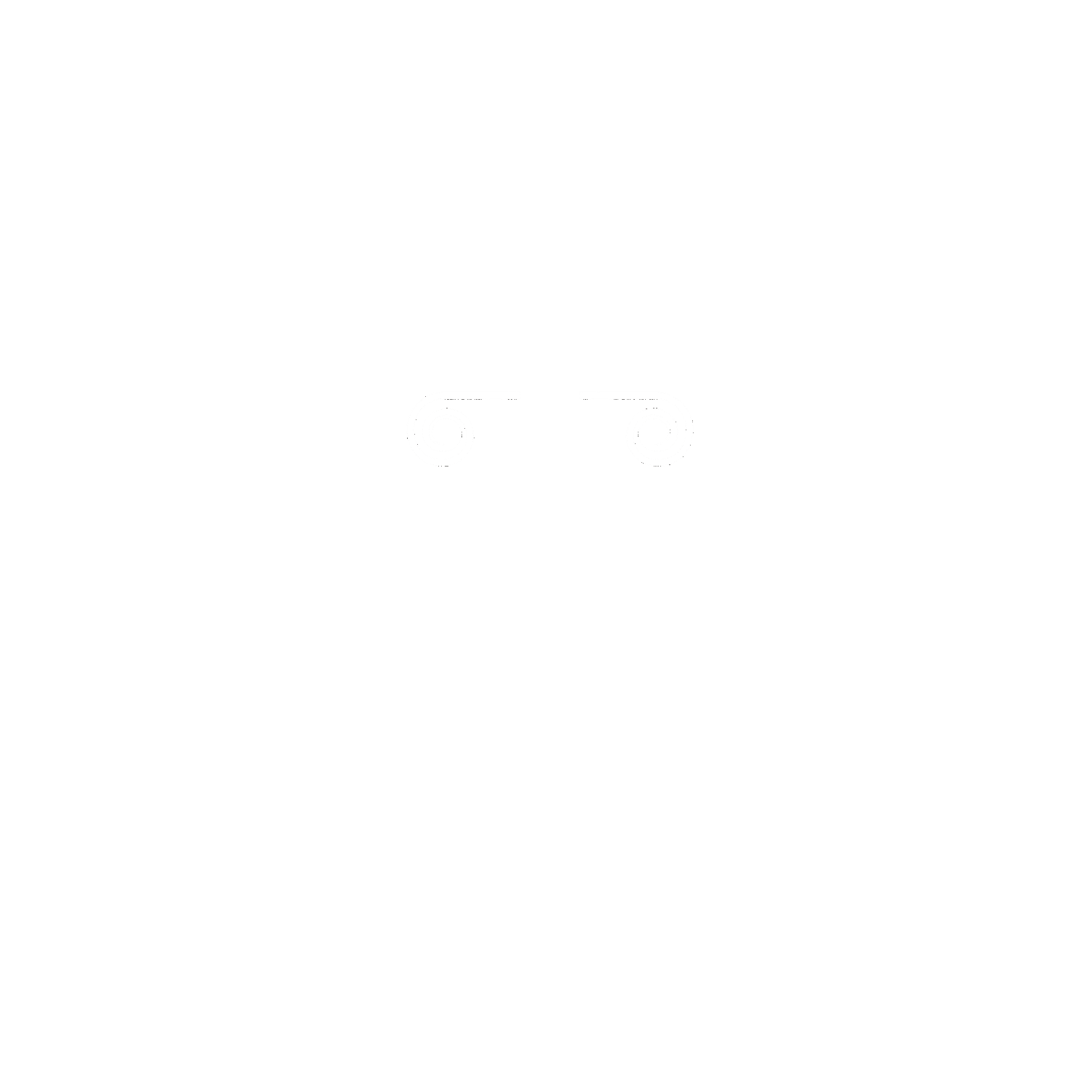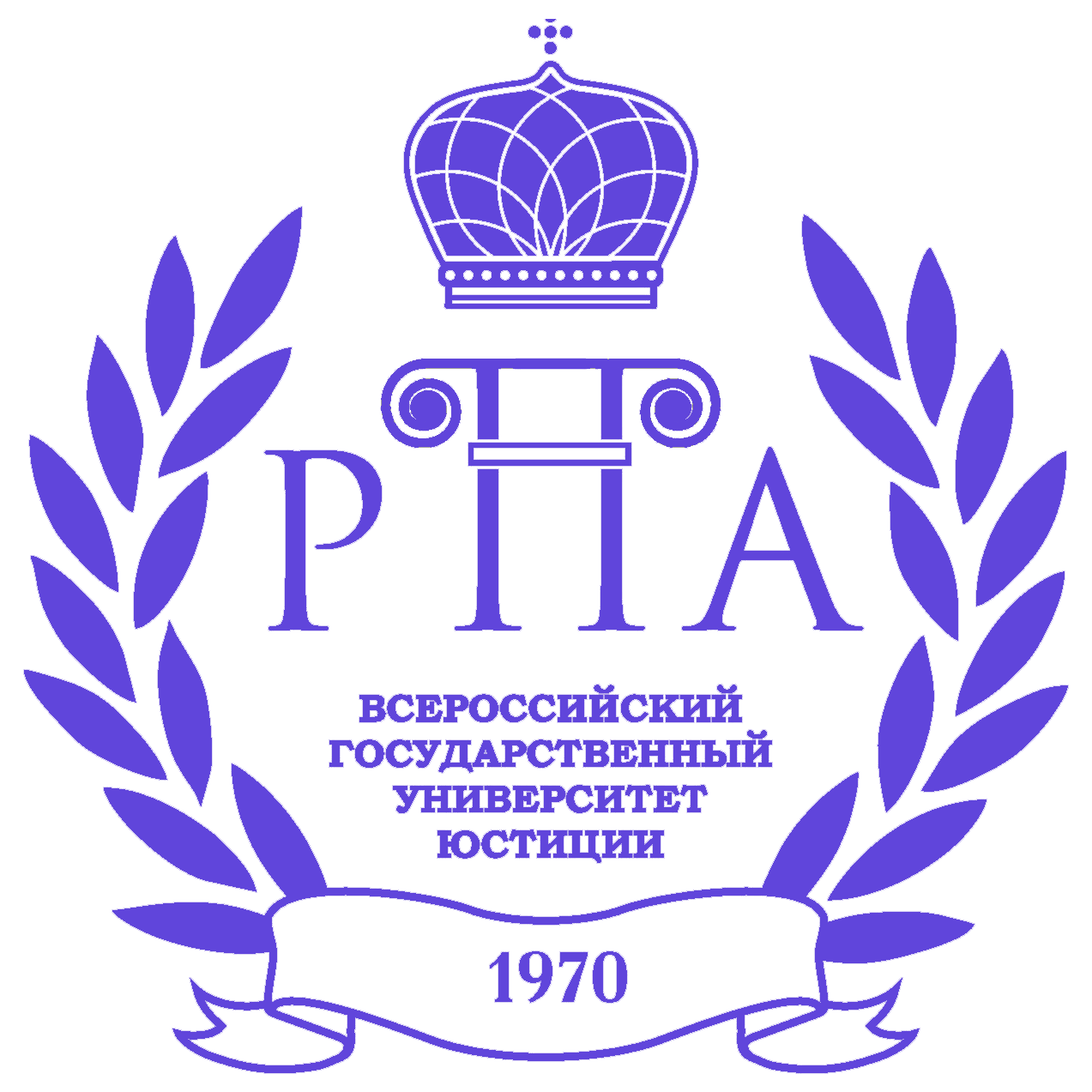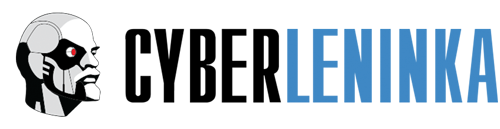Впервые в 2013 г. система юридических фактов в российском гражданском законодательстве была дополнена таким понятием, как решение собрания: соответствующие изменения внесены в ст. 8 ГК РФ[1]. В последующем он дополнен гл. 9.1, в которой установлены единые нормы, касающиеся общих требований к решениям собраний, основаниям их недействительности, порядку оспаривания, характерных для собраний, организуемых и проводимых во всех гражданско-правовых сообществах вне зависимости от их организационно-правовых форм[2].
Упомянутые изменения в ГК РФ соответствовали общей тенденции законодателя, которая, как отметил В.А. Белов, сводилась к максимальному обобщению понятий и появлению единых общих правил, безотносительно специфики правоотношений [11].
Официальное закрепление решения собрания в системе юридических фактов вызвало новую волну дискуссий относительно его правовой природы. При этом, несмотря на появление легального определения понятия «решение собрания», а также очевидной направленности воли законодателя на отнесение решения собрания к юридическим фактам, «… единства не появилось и после законодательного закрепления данного института» [9, с. 60].
Анализ научной литературы по вопросу о правовой природе решений собраний, и в этом следует согласиться с А.А. Клячиным, показал, что решение собрания является одним из наименее изученных понятий, существующих в отечественном праве [9].
Понимание правовой природы того или иного явления позволяет правильно устанавливать и применять методы и инструменты правового регулирования, выявлять пробелы и противоречия в действующей нормативно-правовой базе в целях ее совершенствования, в связи с чем необходимо провести общий обзор существующих в доктрине точек зрения относительно сущности решения собрания как элемента правовой реальности и выработать собственную логически обоснованную и аргументированную позицию.
Как заметил В.А. Белов, «… выполнив юридический анализ нормативного материала (в том числе – законодательных актов о создании и деятельности юридических лиц – корпораций), необходимо понять, какие именно правовые формы, институты и конструкции обеспечивают функционирование анализируемого механизма».
Согласно п. 2 ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других – участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.
Как видно из указанного определения, законодатель не дал определения понятия «решение собрания» и не раскрыл его правовой природы. Из содержания ст. 181.1 ГК РФ, определяющей основные положения о решениях собраний, непонятно, что понимается под этим правовым явлением.
Для понимания термина «решение собрания» и его правовой природы необходимо обратиться к значению слова «собрание», которое в своем общелексическом значении близко к слову «объединение», обозначающее совокупность лиц, объединивших (соединивших, употребивших) свои усилия и (или) имущество для достижения цели, в равной степени необходимой каждому участнику такого объединения (общей цели), независимо от того, присваивает ли гражданское право этому объединению качество субъекта или нет.
Правила гл. 9.1 ГК РФ ввиду их универсальности распространяются на решения собраний участников юридического лица, решения, принимаемые собраниями кредиторов в деле о банкротстве, общими собраниями сособственников, что в полной мере отразило задумку законодателя, изложенную еще в Концепции развития гражданского законодательства[3].
Между тем, дискуссионным вопросом является вопрос о возможности применения норм гл. 9.1 ГК РФ к тем решениям собраний, которые законом не предусмотрены, но каковые могут возникать в тех или иных сферах общественной жизни (например, решения собраний собственников машиномест или решения собраний родителей учащихся школ, воспитанников детских садов, или сплочение коллектива ученых для проведения единого исследования и написания одной монографии, или образование группы граждан для совместного распространения и исповедания религии, пропаганды политических убеждений и т.п.).
По мнению А.А. Сироткиной, неоднозначность понятия «гражданско-правовое сообщество» и стремление к максимально широкому применению правил о решениях собраний привело к ситуациям, когда правила гл. 9.1 ГК РФ стали применять к решениям родительских собраний, собраний наследников и членов общественных организаций [5].
Возражая против такого широкого толкования, отметим, что собрания общественных организаций и родительские собрания по существу создаются для решения внутренних вопросов самой общественной организации, группы родителей, чьи дети учатся в определенном классе. Даже принятие решения о заключении в последующем, например, договора на организацию экскурсии для класса, не относится к случаям, с которыми закон связывает наступление гражданско-правовых последствий. Странным видится и оспаривание таких решений по правилам гл. 9.1 ГК РФ [17].
Так, из буквального толкования правовой нормы следует, что решение собрания должно быть предусмотрено законом, поскольку с решением собрания именно закон связывает гражданско-правовые последствия.
По этой причине в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 июля 2015 г. № 25[4] сделан акцент на то, что правила гл. 9.1 ГК РФ применяются лишь к решениям таких гражданско-правовых сообществ, которые представляют собой определенную группу лиц, наделенную полномочиями принимать решения на собраниях и, главное, такие решения и связанные с ними последствия должны быть обязательны для всех лиц, входящих в такое гражданско-правовое сообщество и имеющих право принимать участие в собрании. Здесь требуется уточнить, что признаки группы как гражданско-правового сообщества и основания наделения их полномочиями по принятию решений на собраниях, а равно обязательность принимаемых решений, должны следовать из закона, поскольку именно закон в силу п. 1 ст. 181.1 ГК РФ непосредственно связывает с принятием соответствующего решения наступление гражданско-правовых последствий.
Дискуссионный вопрос о применении правил о решениях собраний либо только к тем собраниям, которые предусмотрены законом (чаще всего речь идет о юридических лицах), либо к собраниям любых гражданско-правовых сообществ, как предусмотренных, так и не предусмотренных законом, выявил различные подходы относительно понимания правовой природы решений собраний. Так, некоторые рассматривают решения собрания в корпоративном (узком) ключе, т.е. дают определение решения собрания применительно к юридическим лицам, тогда как другие полагают необходимым рассматривать решение собрания в более широком смысле, считая целесообразным определить общую природу решений собраний.
Безусловно, решения собраний наиболее часто принимаются именно юридическими лицами, а с точки зрения экономических последствий и значимости для гражданского оборота являются наиболее актуальным видом решений собраний.
Между тем, на наш взгляд, основной идеей регламентации решений собраний в отдельной главе ГК РФ являлась не только систематизация положений о решениях собраний, рассредоточенных в разных нормативно-правовых актах, но и закрепление позиции о распространении положений о решениях собраний не только на юридические лица и их участников, но и на иные гражданско-правовые сообщества. Так, ст. 181.1 ГК РФ распространяет правила о решениях собраний на сособственников, кредиторов при банкротстве и других – участников гражданско-правового сообщества, которые очевидно не являются юридическими лицами, что не позволяет рассматривать решения собраний исключительно в узком смысле.
Предлагаем рассмотреть краткий обзор существующих точек зрения о правовой природе решений собраний, которые в основном рассматривается через призму соотношения решения собрания и сделки.
Исследователи решений собраний в узкокорпоративном смысле придерживаются одного из четырех направлений научных воззрений по вопросу о разграничении решений собраний и сделок.
Решения собраний как особый специфический юридический факт, несоотносимый со сделкой в принципе рассматривают В.А. Белов, Г.В. Ломакин, А.Я. Ганижев, В.К. Андреев, А.А. Маковская, Н.Б. Романова [1; 4; 13, с. 156; 16].
Так, В.А. Белов полагает, что решение собрания является особым родом юридических фактов, «… а вовсе не неких “корпоративных сделок”, которые ни разу не сделки» [11]. По его мнению, решения собраний представляют собой корпоративные акты, связанные с образованием и изъявлением воли корпораций и соотношением этой воли с волей ее участников, направленные на совместное достижение несколькими лицами единой общей цели и построенные по принципу «один за всех, и все за одного». Именно это принципиально отличает решения собраний как корпоративные акты от сделок, содержанием которых является преследование их участниками противоположных целей, отношений, построенных по принципу «ты мне – я тебе». К корпоративным отношениям неприложимы такие понятия, как возмездность и эквивалентность – ключевые понятия римского частного права; коль скоро так, то очевидно, что из системы юридических фактов корпоративного права должна просто выпасть сделка – юридический акт, основанный на возмездном или безвозмездном предоставлении. Воля большинства стирает для права волю тех, кто остался в меньшинстве, делает ее безразличной, создавая, тем не менее, юридические последствия (в том числе и в виде обязанностей) и для представителей меньшинства. Возникновение обязанностей безотносительно к воле их потенциального носителя еще можно себе представить (вспомним хотя бы случай с деликтным обязательством), но вот возникновения обязанностей вопреки законно изъявленной и адекватно сформированной воле – такое в частном праве, пожалуй, мало мыслимо.
По мнению Г.В. Ломакина, А.Я. Ганжиева, Н.Б. Романовой, решение собрания не может относиться к волеизъявляющим актам-сделкам, а является волеобразующим актом юридического лица. Субъектом, принявшим решение, влекущее правовые последствия, является общее собрание как орган юридического лица, а не физические лица, входящие в его состав. Эти лица лишь реализуют компетенцию органа, совместно действуя при голосовании на общем собрании. Воля акционеров (участников) направлена не на решение общего собрания как таковое, а на то, чтобы юридическое лицо совершило действие (бездействие) необходимым образом, которое и определяют сами акционеры (участники).
Решения собраний делятся на решения-сделки и решения-несделки, в зависимости от того, направлены они на создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей или нет (Г.В. Цепов, Н.С. Терентьева, Л.К. Беджаше, Ю.Г. Степанов).
По мнению Г.В. Цепова, решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала, дроблении и консолидации акций, избрании членов совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, образовании исполнительного органа относятся к категории решений-сделок, а утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности – к категории решений-несделок, поскольку автор квалифицирует их с точки зрения юридических фактов как поступки [20, с. 145].
В развитие этой теории предлагается деление решений собраний на решения, которые возможно рассматривать как юридический факт, и решения, которые не рассматриваются как юридический факт, т.е. не приводящие к наступлению правовых последствий для всех участников общества. Если решения собраний не имеют юридического значения, они не являются юридическими фактами. Однако те решения собраний, которые можно отнести к юридическим фактам, имеют сознательно волевой характер и направлены на достижение общей цели: принятие юридического акта – решения собраний, т.е. являются действием и, следовательно, гражданско-правовой сделкой [3].
Так, Н.С. Терентьева указывает, что законодатель подразумевает классификацию решений собраний на решения, которые возможно рассматривать как юридический факт, т.е. которые соответствуют требованиям, предъявляемым к сделкам, и решения, которые не рассматриваются как юридический факт, т.е. решения, которые не приводят к наступлению правовых последствий для всех участников общества. Критерием деления выступает наличие либо отсутствие правовых последствий для всех участников собрания [18].
Кроме того, Н.В. Козлова считает, что решения собраний приравниваются к многосторонней сделке, чаще именуемой как многосторонняя корпоративная сделка либо гражданско-правовая сделка корпоративного характера.
Решения собраний отличаются своеобразием с позиций волеобразования, которое заключается главным образом в том, что для придания решению юридической силы не нужно получать согласие всех участников, имеющих право участвовать в принятии решения. Однако данная особенность решений собраний ничуть не умаляет их значения как вида сделок, являясь лишь основанием для их отграничения от другого вида гражданско-правовых сделок – договора, который требует волеизъявления всех сторон договора [7; 10, с. 223, 227].
Наконец, Б.П. Архипов выражает позицию, согласно которой решения собрания представляют собой совокупность сделок, формирующих сложный юридический состав сделки [2, с. 52]. Например, для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью в случаях, установленным законом или учредительным документом, первым юридическим фактом является принятие решения собрания об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью.
Исследователи решений собраний в широком смысле по вопросу о разграничении решений собраний и сделок придерживаются диаметрально противоположных точек зрения, полагая, что решения собраний являются сделками и решения собраний не могут признаваться сделками.
В обоснование своей позиции сторонники первой концепции Е.А. Крашенинников, Ю.В. Байгушева, К.И. Труханов, П.З. Иванишин указывают, что с точки зрения юридической техники разработчики законопроекта о внесении изменений в ч. 1 ГК РФ стремились всячески размежевать эти правовые институты [8, с. 46; 12; 19]. Однако при этом помещение законодателем решений собраний в гл. 9.1 ГК РФ, отдельную от гл. 9 ГК РФ, посвященную сделкам, не дает оснований считать, что решения собраний имеют исключительную правовую природу, отличную от правовой природы гражданско-правовой сделки.
Критикуя указанную позицию, В.К. Андреев выделяет несколько оснований, отличающих решения собраний от сделок: решения собраний могут порождать гражданско-правовые последствия только в случаях, предусмотренных законом; решения собрания порождают правовые последствия, а не непосредственно гражданские права и обязанности; решения собраний имеют обязательную письменную форму; решения собраний порождают правовые последствия для участников гражданско-правового сообщества, которые голосовали против их принятия или вовсе не участвовали в принятии таких решений [1, с. 67-68].
Недействительность решений общих собраний, независимо от их правовой природы, не рассматривается в том же аспекте, что и недействительность сделок, полагает А.А. Маковская [14, с. 383].
Не признавая решения собраний сделками, В.В. Долинская конкретизирует, что решения собраний являются правомерными действиями, юридическими актами (наряду со сделками, административными и судебными актами) [6].
По нашему мнению, из анализа действующего законодательства доподлинно можно установить направленность воли законодателя относительно отнесения решений собраний к юридическим фактам, поскольку законом определено, что решения собраний порождают правовые последствия для определенных категорий лиц (для всех лиц, имеющих право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений).
В связи с этим, не можем согласиться с мнением ученых, полагающих существование неких решений собраний, которые не влекут правовых последствий. Решение собрания как корпоративный акт направлено на достижение определенного результата, т.е. на создание тех или иных правовых последствий у определенного круга лиц – участников такой группы лиц, объединения.
Что касается соотношения решений собраний и сделок, следует отметить, что нормы ст. 181.3-181.5 ГК РФ об основаниях и порядке признания недействительными решений собраний, положения об оспоримости и ничтожности решений собраний корреспондируют положениям об оспоримости и ничтожности сделок. Как видим из конструкции подразд. I «Общие положения» ч. 1 ГК РФ, гл. 9.1 «Решения собраний» помещена в подразд. IV «Сделки. Решения собраний».
Такой симметричный подход законодателя, безусловно, наводит на мысль об общности правовой природы сделок и решений собраний, однако не разрешает существующую научную полемику по вопросу соотношения рассматриваемого правового института с институтом сделки.
Указанная дискуссия, на наш взгляд, носит не только теоретическое, но и прикладное значение: определение правовой природы решения собрания и отнесения либо не отнесения их к сделкам позволит ответить на ряд практических вопросов, в частности, о допустимости применения по аналогии норм о сделках к решениям собраний при наличии пробелов в правовом регулировании.
Несмотря на наличие очевидного сходства решений собраний и сделок, следует признать наличие настолько специфических признаков решений собраний, которые не позволяют втиснуть решения собраний в рамки сделок и признать их одним из видов сделок.
Во-первых, для совершения сделки необходимо волеизъявление всех лиц, участвующих в ней, тогда как решение собрания будет принято при наличии волеизъявления большинства, необходимого в силу закона для принятия такого решения. Более того, решение собрания может идти вразрез с волей лиц, участвующих в собрании, но воздержавшихся от принятия решения или голосовавших против такого решения. Тем не менее, при наличии воли большинства решение будет считаться принятым, что невозможно представить применительно к сделке. Решения собраний представляют собой результат согласования воли участников гражданско-правового сообщества и действуют в отношении всех его участников, даже воздержавшихся, голосовавших против или не принявших участия в голосовании [15]. Ни один другой юридический факт не подразумевает необходимость согласования воли нескольких лиц и формирование общей, коллективной воли.
Во-вторых, решения собраний имеют специфику формирования и фиксации волеизъявления ее участников:
– к воле большинства присоединяется несогласное меньшинство;
– поэтапная процедура волеизъявления: процедура, связанная с определением правомерности собрания (кворум, регистрация участников собрания, определение вопросов повестки дня и пр.) и фиксация волеизъявления участников (письменная форма, голосование, ведение протоколов).
В-третьих, по общему правилу сделка не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц) (п. 3 ст. 308 ГК РФ). Тогда как решение собрания порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других – участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.
Таким образом, на наш взгляд, решение собраний является особым специфическим юридическим фактом, соотносимым со сделкой.