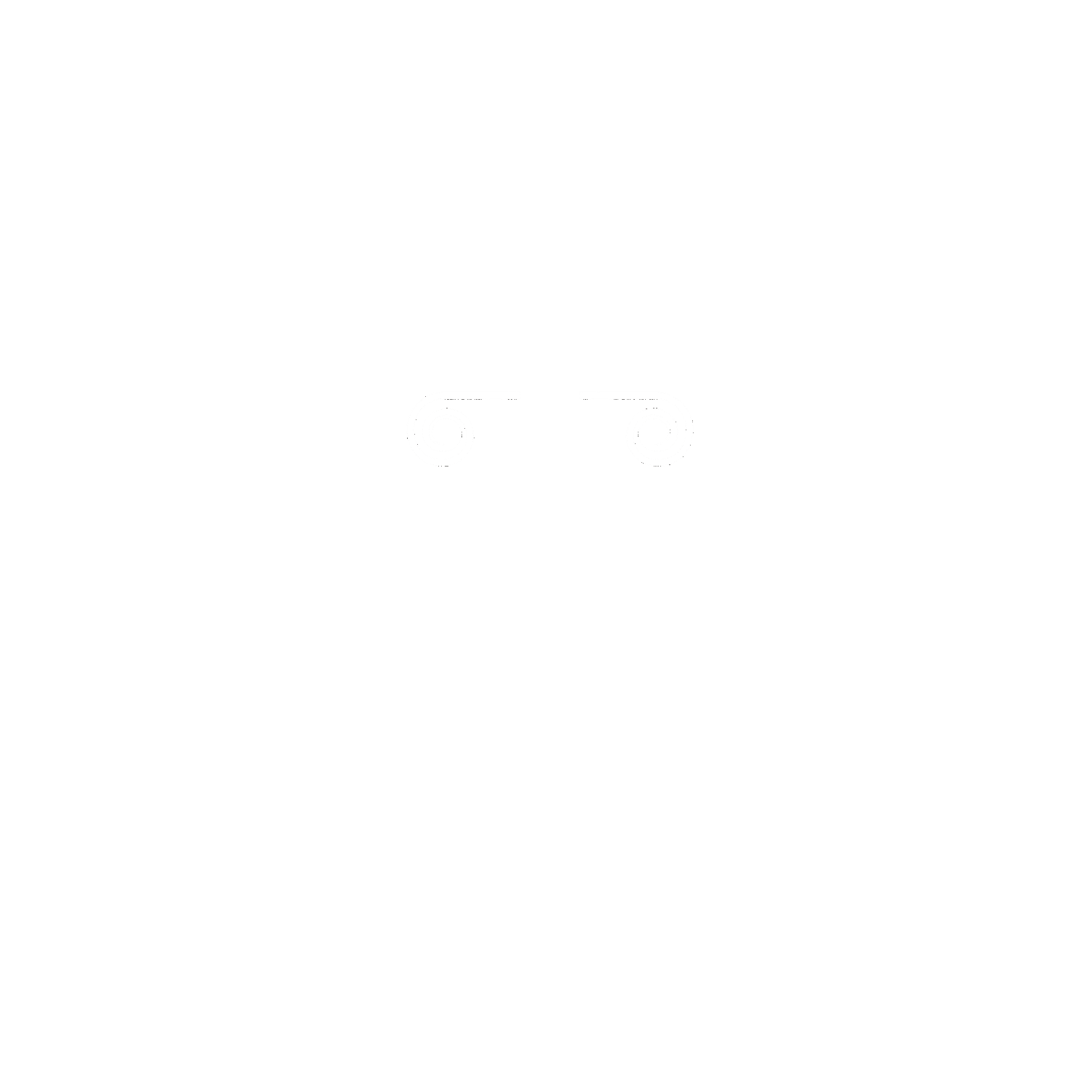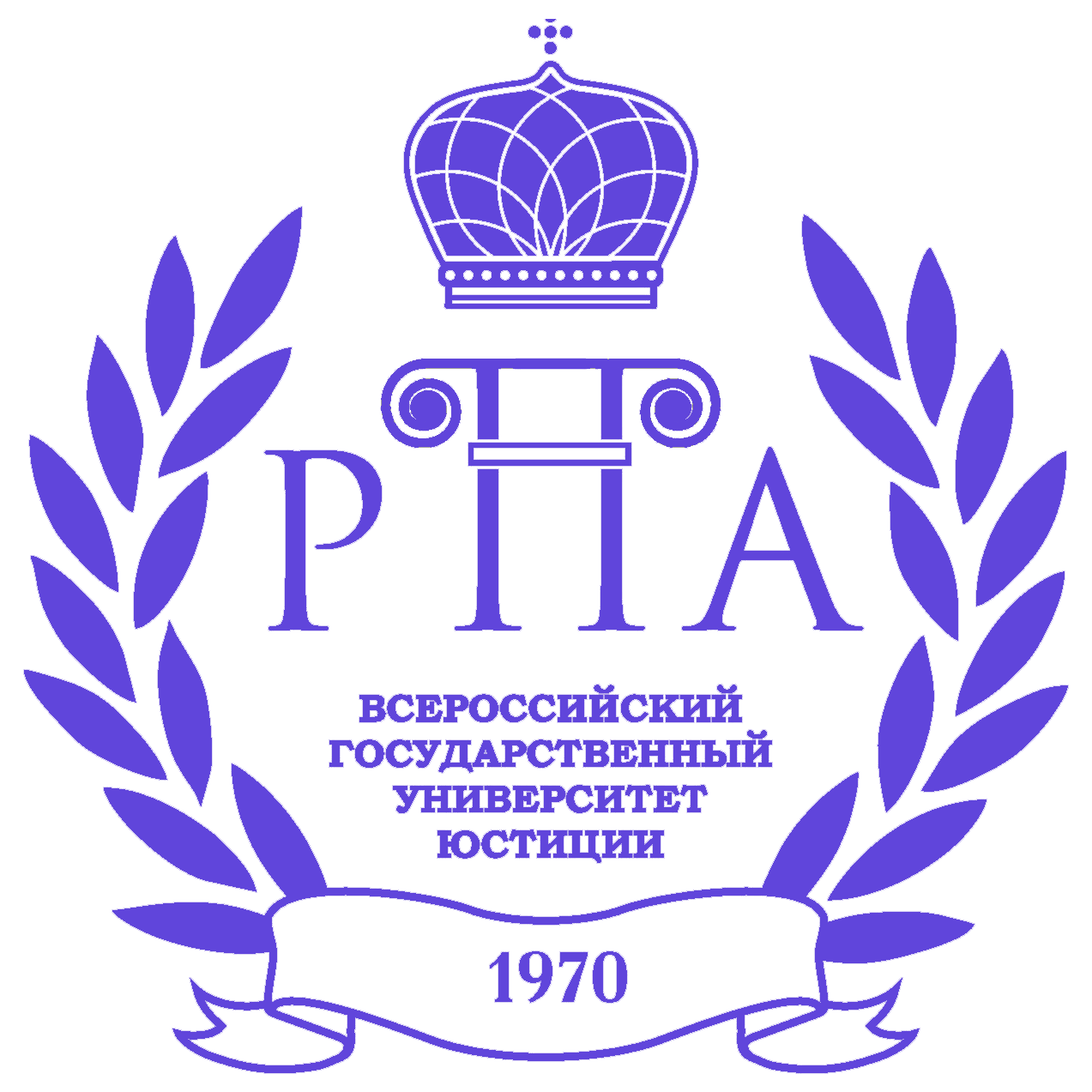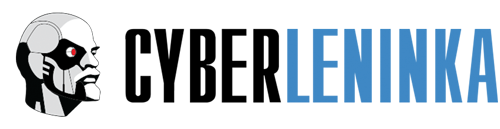Введение
Трактат Карла Шмитта (1888–1985 гг.) «О трех видах юридического мышления» (1934 г.) представляет отдельный и весьма значительный интерес как для современников выдающегося немецкого мыслителя, так и для всех тех, кто интересуется теорией правовой мысли сегодня. Небольшая по объему, эта работа не уступает по значимости таким многостраничным сочинениям Шмитта, как «Гарант конституции», «Понятие политического», «Номос Земли». Считается, что именно в «Трех видах» Шмитт впервые вводит понятие мышление в категориях конкретного порядка, предварительно отказавшись от нормативизма и подвергнув критике децизионизм. Справедливости ради стоит заметить, что незадолго до написания этой работы Шмитт упоминал все три типа юридического мышления в предисловии к «Политической теологии», упрекая нормативизм в надличностном характере абстрактных правил (что и стало в конечном счете причиной отказа от него), но при этом допуская и принимая надличностный характер институционализма, благодаря которому индивид теряет, а народ как институциональная общность обретает статус субъекта права по принципу «Ты ничто, твой народ все» [Цит. по: 12, S. 352].
О различении трех видов юридического мышления: краткий обзор
В «Трех видах», как и в некоторых других своих работах, Шмитт пользуется методологическим понятием различение[1]. Критерием для различения трех видов юридического мышления у Шмитта выступает не противоположность их друг другу (права – закону, права – решению, права – порядку) и даже не их соотнесение (права с порядком, права с нормой или права с решением), а интерпретирование права каждым из видов юридического мышления.
Цель трактата предопределена Шмиттом изначально, когда автор подвергает различению:
- нормативизм (понимание права как правила и соответствующее этому пониманию мышление о правилах и законах);
- децизионизм (понимание права как решения и соответствующее ему мышление);
- институционализм (понимание права как конкретного порядка и формы и соответствующее ему мышление).
Позитивистский тип Шмитт не выделяет в качестве инварианта юридического мышления, поскольку к моменту написания «Трех видов» позитивизм, по его мнению, не оправдал себя как самостоятельная юридическая доктрина: «Позитивист не является самостоятельным и вечным типом юридического мышления. Он … подчиняется решению соответствующего законодателя, обладающего государственной властью… Без системы координат конкретного порядка юридический позитивизм не сможет различать ни между правом и беззаконием, ни между объективностью и субъективным произволом» [9, с. 330, 335]. Отсюда следует, что юридический позитивизм в качестве результата синтеза нормативизма и децизионизма не устраивает немецкого философа: «Комбинация из децизионизма и нормативизма, из которой состоит подобный позитивизм XIX века, не может считаться ни первоначальным, ни вечным юридическим типом» [9, с. 335].
Объектом юридического мышления, по мнению Шмитта, может выступать и правило, и решение, и порядок, но конечное представление о том, что именно отождествляется с правом в то или иное время в той или иной стране, определяется лишь одним из его видов. Ключевыми в данном случае являются слова «в то или иное время» или «в той или иной стране». Все три вида мышления могут использоваться одновременно (нормативизм – в законодательной сфере, децизионизм – в политической и судебной сферах, институционализм – в любых сферах деятельности человека) при условии нормальной ситуации функционирования правовой системы. В случае же чрезвычайного положения, т.е. изменения политической ситуации в конкретный временной период у конкретного народа нормативизм отступает и на первый план выходит децизионизм, который предполагает принятие политических решений в чрезвычайных обстоятельствах. При этом, преодоление «чрезвычайного случая» и стабилизация политической ситуации отнюдь не гарантируют возвращение к нормативизму: прежние законы (например, Веймарская конституция) подвергаются переосмыслению в новой политической ситуации и теряют связь с нормативизмом в контексте пережитого столкновения с чрезвычайной ситуацией. Нормативной же, по мнению Шмитта, становится сама политическая действительность (при этом нормативизм как бы встраивается в конкретный порядок), а новая политическая ситуация предполагает уже не нормативное мышление, а мышление в категориях конкретного порядка (альтернативный перевод – конкретное мышление о порядке и форме). Для национал-социализма бесспорным преимуществом такого мышления выступала возможность предоставления поистине безграничной власти новым политическим руководителям. Будучи более чем удачной конструкцией для интеграции нацистской идеологии в традиционное право, мышление в категориях конкретного порядка порождало новую политическую действительность в виде нового порядка, который «разрешал» признавать как актуальные, так и потенциальные нормы и формы беззакония…
Нормативизм Г. Кельзена как альтернатива институционализму К. Шмитта
После окончания Первой мировой войны перед немецким юридическим сообществом встал вопрос относительно наиболее приоритетного направления развития собственной правовой системы. Как и накануне объединения Германии (1871), когда речь шла о выборе между великогерманским (вокруг Австрии) и младогерманским (вокруг Пруссии) вариантами страна вновь оказалась на перепутье.
Первый вариант – (позитивистский) нормативизм – предлагал Ганс Кельзен (1881–1973)[2], второй – юридический институционализм – Карл Шмитт. Выбор между нормативизмом и институционализмом предполагал также дилемму между производными от этих учений способами юридического мышления, разность которых спровоцировала антагонизм взглядов Кельзена и Шмитта на правовое будущее Германии. Данное обстоятельство дает право некоторым российским исследователям характеризовать идейное противостояние двух выдающихся ученых, скорее, как острую полемику антагонистического характера, в процессе которой ее участниками не было найдено ни одной точки соприкосновения: «…между мыслителями существует масса разногласий, которые по ходу рассматриваемых текстов только возрастают. Более того, в данной дискуссии весьма проблематично обнаружить значительные сходства между позициями исследователей – напротив, возникает ощущение, что мы имеем дело с полным непониманием позиций друг друга и противостоянием двух абсолютно разных способов политического и юридического мышления» [7, с. 83]. Не вдаваясь в принципиальные разногласия по этому поводу с автором вышеприведенной цитаты, заметим, тем не менее, что рассмотрение им лишь одного из направлений идейного конфликта Кельзен – Шмитт (кто должен быть субъектом принятия решения) не может служить основанием для столь категоричной оценки характера их полемики. С точки зрения автора статьи, по некоторым пунктам этой полемики ее участники нашли точки соприкосновения.
Объективно перевес в ходе дискуссии Кельзена со Шмиттом был на стороне последнего, если считать одним из его сильных аргументов ту историческую политико-правовую реальность, которая сложилась в результате преобладания «чрезвычайных ситуаций» над ситуациями «нормальными», а значит нормативными: «…правоведческое мышление в Германии еще ни в коем случае не перешло к нормативистской абстракции» [9, с. 342].
Более десяти столетий Первый рейх (962–1806) представлял собой политическое пространство в виде разрозненных княжеств и епископств, функционировавших на основании указов и предписаний. Отсутствие законов стало основанием для нормативистов утверждать, что правовая система Германии возникла только в 1871 г., когда был учрежден парламент (Рейхстаг).
Возможно предположить, что Шмитт (в отличие от нормативистов) признавал наличие германской правовой системы еще до момента объединения Германии (1871), поскольку уже в период Первого рейха «немецкое средневековое мышление», по его мнению, выступало в качестве успешного регулятора правоотношений между властвующими и подвластными: «Немецкое средневековое мышление … являлось вполне конкретным мышлением о порядке …» [9, с. 311]. Духовную (а значит и правовую) близость власти в пределах территории небольшого германского княжества Шмитт, видимо, считал основанием для появления и развития в Первом рейхе мышления в категориях конкретного порядка, хотя прямой апелляции к данному предположению в работах Шмитта автор статьи не находит[3]. Именно в связи с этим некоторые исследователи считают представление Шмитта о мышлении в категориях конкретного порядка несколько смутным и в определенной степени не обоснованным. Ясно одно: рассматривая мышление в категориях конкретного порядка как приоритетное для правовой системы Германии, Шмитт отвергает любые формы рецепции[4], поскольку все они «вытесняют», «исключают» или «отдаляют» национальную правовую мысль каждого отдельного государства от его же политико-правовой реальности [9]. При этом несмотря на свое негативное отношение к рецепции римского права, Шмитт периодически пользовался его понятийным аппаратом (так, в своем капитальном труде «Номос земли» Шмитт заимствует модифицированный Г. Гроцием римский правовой институт оккупация). Всячески приветствуя преемственность мышления в категориях конкретного порядка в процессе исторического транзита Германии от раздробленного к единому национальному государству, Шмитт не учитывает того обстоятельства, что такой транзит сопряжен с неизбежным распространением юридического нормативизма.
Даже будучи единой страной, Германия сохраняет экономическое, политическое и правовое разнообразие территорий, вошедших в нее. Понятие «объединенная Германия» предполагала на момент ее создания (1871 г.) лишь наличие общей государственной территории, управляемой посредством единого центра власти. При этом единственным признаком общенациональной идентичности выступал немецкий язык как составная часть общегерманской культуры. Все остальные необходимые элементы идентификации немецкого народа как единой нации отсутствовали, и одним из способов преодоления правового партикуляризма в первые три десятилетия существования (с 1871 г. и до момента вступления в силу Германского гражданского уложения в 1900 г., далее – ГГУ) Второго рейха должен был быть юридический нормативизм (для этого сразу после объединения и был учрежден немецкий парламент – Рейхстаг). С другой стороны, не следует забывать о том, что любая унификация правового поля единого государства (посредством нормативизма) чревата определенной степенью абстрагирования правовой нормы от конкретного положения дел в каждом, отдельно взятом регионе единой Германии. Помимо необходимости проведения правовой унификации ощущалась острая потребность в унификации политической, предполагающей объединение всех германских этносов (пруссаков, саксонцев, баденцев и т.д.) в единую немецкую нацию, для которой была бы характерная общность политико-правового мышления. Но аналогично тому, как после рецепции римского права невозможно было ожидать возвращения в Германию мышления в категориях конкретного порядка, так же не возможна была преемственность институционального мышления объединенной Германии из ее средневекового аналога, поскольку (повторяем) единственным средством преодоления местечкового мышления в категориях конкретного порядка (которое служило «отражением» правового партикуляризма) необходимо считать переход к нормативизму[5].
Кельзен vs. Шмитт: идейное противостояние
Возвращаясь к дискуссии между Кельзеном и Шмиттом по вопросу приоритетного направления развития германского права, следует подчеркнуть, что и тот, и другой воспринимали нормативизм как правовое учение, из которого устранены такие неюридические элементы, как политика, мораль, идеология, история, т.е. все то, что составляет суть политико-правовой реальности. Поясняя позицию Кельзена, Шмитт указывает на то, что «из юридического понятия устраняются все социологические элементы, чтобы получить совершенную, чистую, без искажений систему вменений нормам и последней единой основной норме» [10, с. 20]. Считая, что именно таким («чистым») и должно быть учение о праве, Кельзен отказывается и от познавательных усилий в отношении всех «социологических» элементов в пользу нормативного содержания правовой системы, в рамках которой лишь норма права выступает в качестве носителя и выразителя власти: «… государство должно быть для юридического рассмотрения чем-то чисто юридическим, чем-то нормативно значимым ….» [10].
Шмитт, напротив, не считает возможным отграничивать юриспруденцию, власть и само государство от всего того, что может максимально приблизить их к политико-правовой реальности, и рассматривает правовую науку как исключительно междисциплинарное научное знание: «Что может оказаться в остатке, если из дела и его оценки удалить все мировоззренческое, экономическое, политическое? Если оторвать юридическое мышление от всякого содержательного смысла и от предполагаемой нормальной ситуации, то оно необходимо окажется во все большем противопоставлении со всеми содержаниями, со всем, что является мировоззренческим, моральным экономическим или политическим …» [9, с. 334]. Разность подхода к объекту исследования (которым в данном случае является нормативизм) лежит в основе тех разногласий, которые спровоцировали идейное и теоретическое противостояние между Кельзеном и Шмиттом.
Суть первого разногласия – об абстрактности нормативизма. По мнению Шмитта, оторванность права от политико-правовой реальности приводит к абстрактности правовых норм, неизбежным следствием которой была и остается изоляция не только самой правовой нормы от политико-правовой реальности, но и всей правовой системы от порядка конкретного государства: «Для «нормативистского» мышления характерным является то, что оно «изолирует и абсолютизирует норму или правило (в отличие от решения или от конкретного порядка)» [9, с. 313]. Когда абстрактные правовые нормы отделены от реальной ситуации, то, по мнению Шмитта, происходит нарушение восприятия их целостности, в силу чего правопорядок трансформируется «в простое воплощение или простую сумму правил и законов», которые представляют собой не единую правовую систему, а лишь производную от нее часть [9].
В отличие от Шмитта, Кельзен считал, что абстрактный характер правовой нормы отнюдь не означает ее изоляцию от реальной ситуации. Наоборот, абстрактная норма по Кельзену служит основой для формирования реальных правоотношений: «В своей работе «Чистое учение о праве» Кельзен рассматривал толкование права в контексте содержания юридической нормы…и указывал на принципиальное значение данной нормы для постепенного развития на ее основе реального правоотношения» [5, с. 20][6].
Суть второго разногласия – о дуализме правовой нормы в «чистом» учении о праве. Автор считает необходимым дать разъяснение по поводу того, что именно стоит за понятием дуализма правовой нормы, который предполагает существование как норм бытия, так и норм долженствования: «С одной стороны, существуют нормы долженствования, предписывающие определенное поведение, с другой стороны, существуют нормы бытия, описывающие реально существующие общие отношения между вещами и процессами[7]» [12, S. 64].
Шмитт исходит из того, что подобно тому, как нормы бытия должны строго соответствовать событиям, таким же образом законы (как нормы долженствования[8]) должны соответствовать политико-правовой действительности. Но исходя из тех примеров, которыми изобилуют труды Шмитта, законы оказываются не способны регулировать реальные правоотношения. И на основании этого наблюдения Шмитт приходит к выводу о неспособности нормативизма решать на основе правовых норм (норм бытия и норм долженствования) политико-правовые вопросы, требующие политического решения суверенной власти, которую Шмитт считает основным субъектом учения о децизионизме. Таким образом, не признавая правовую норму в целом, Шмитт не признает и ее разделение на нормы бытия и нормы долженствования.
В отличие от Шмитта, Кельзен, опираясь на принцип (гильотину) Дэвида Юма[9], полагал, что дуализм правовой нормы порождает два принципиально разных способа мышления, один из которых – мышление о бытии – «отвечает» за мир фактов, а второе – мышление о долженствовании – за мир ценностей. Оба мира, как и оба типа мышления, существуют в параллельной реальности (по аналогии деления юридических фактов на юридические события и юридические действия). Очевидно, что сама природа параллельной реальности предполагает невозможность человека влиять на мир фактов (юридические события) в отличие от мира ценностей (юридические действия). Другими словами, Кельзен отвергает любую форму корреляции между нормами бытия и нормами долженствования, тем самым утверждая, что нормативизм существует там и только там, где функционируют правовые нормы, которые (повторяем) «распадаются» на нормы бытия и нормы долженствования: «Если происходит некое событие, противоречащее конкретной норме бытия, то данная норма признается ошибочной (недействительной) и либо опровергается, либо подлежит коррекции. Следовательно, нормы бытия определяют сферу неподвластную человеку, который в лучшем случае может использовать физические законы в своих технических изобретениях. Совершенно иначе обстоит дело с нормами долженствования. Люди могут изменять содержание данных норм… Когда конкретное лицо нарушает норму долженствования, никому не приходит в голову считать ее недействительной. Атрибуты «истина» или «ложь» неприменимы к нормам долженствования, поскольку они не описывают факты, а устанавливают руководящие принципы человеческого поведения»[10] [12, S. 64–65].
Дуализм, приравниваемый к оппозиции «нормы бытия – нормы долженствования», преодолевается в рамках учения о естественном праве, где эти нормы совпадают. Так, принцип (формального) равенства граждан перед законом[11] – как норма долженствования – и принцип подчинения сильному – как норма бытия – суть нормы естественного права. Считается, что социальные отношения по формуле «сильный – слабый» характерны для большинства общественных систем, и те, кто защищает данное утверждение, пользуется такими аргументами, как «природа вещей» или их «естественное состояние».
Суть третьего разногласия – о гаранте Конституции. Позиции Кельзена и Шмитта по вопросу о том, кто должен выступать в качестве гаранта Конституции, расходятся: по мнению Кельзена, это должен быть Конституционный суд[12], по мнению Шмитта – Рейхспрезидент.
Конституционный суд по Кельзену обязан заниматься конституционным правосудием, т.е. принимать решения о правомерности (конституционности) или неправомерности (неконституционности) правовых норм, а значит и законов, непосредственно подчиненных Конституции как основной норме. Соответственно, Конституционный суд, признавая ту или иную правовую норму неконституционной, обладает правом отмены законов и иных подзаконных актов. Таким образом, судебные решения Конституционного суда, сами по себе являются источниками норм права, а следовательно, и нормативизма.
Некоторые современные исследователи придерживаются аналогичной Кельзену точки зрения, предлагая дополнительную аргументацию относительно гаранта Конституции. Так, немецкий профессор Б. Рютерс приходит к выводу о том, что «судейское право действует как высший источник права», предлагая в качестве аргумента следующее утверждение (касающееся непосредственно Конституционного суда ФРГ как гаранта Основного закона страны): «Действующий правовой порядок почти во всех сферах жизни состоит преимущественно не из законов, а из основных положений решений судов последних инстанций, т. е. федеральных судов и Федерального конституционного суда» [4, с. 45].
Несмотря на разность позиций Шмитта и Кельзена, их объединяло стойкое нежелание «отдать» полномочия гаранта немецкому парламенту (Рейхстагу), который был настолько ослаблен постоянными межпартийными распрями, что сохраниться в качестве сильного органа власти и сохранить за собой закрепленное Веймарской конституцией право и возможность определять дальнейшую политику страны он был не в состоянии.
Единственным, кто, по мнению Шмитта, способен скорректировать политическую ситуацию, является Рейхспрезидент, обладающий, согласно ст. 48[13] Конституции Веймарской республики, правом принятия единоличных решений в чрезвычайных обстоятельствах. Для Шмитта такое право предполагает переход от нормативизма к политическому децизионизму, поскольку в чрезвычайных обстоятельствах, которые Шмитт интерпретирует либо как кризис, либо как смену одной политико-правовой системы на другую, правоотношения, регулируемые нормами права, теряют связь с реальностью. Потеря такого рода (по Шмитту) чревата опасностью выхода ситуации из-под контроля и превращения ее в чрезвычайную, а значит – ненормальную (термин Шмитта): «Мы знаем, что норма предполагает нормальную ситуацию и нормальные типы … Норма может сколько угодно заявлять о собственной нерушимости, однако она господствует над ситуацией лишь в той мере, в какой ситуация не превращается в абсолютно ненормальную …» [9, с. 321–322]. Другими словами, единственным выходом из чрезвычайной ситуации Шмитт считал решение о чрезвычайном положении, которое единолично принимает суверен (в лице Рейхспрезидента), выступая в качестве гаранта Конституции. С другой стороны, отвергая Конституцию как источник нормативизма, Шмитт принимает (в качестве основания) ту ее часть, которая предоставляет полномочия Рейхспрезиденту «при определенных обстоятельствах принимать чрезвычайные меры вооруженного характера без предварительного согласия Рейхстага» (ст. 48. Конституции Веймарской республики).
Три положения о нормативном мышлении согласно политико-правовому учению Шмитта
«Любое правило, любая установленная норма регулирует множество случаев. Она возвышается над отдельным случаем и над конкретной ситуацией и потому — в качестве «нормы» — обладает определенным преимуществом и превосходством над простой действительностью и фактичностью конкретного частного случая, изменяющейся ситуации и непостоянства человеческой воли» [9, с. 313]. Это, пожалуй, единственное нейтральное определение сути нормативизма в учении Шмитта. В остальном отношение Шмитта к нормативному мышлению сравнимо с отношением Мефистофеля к юриспруденции как науке в целом: «Законы и права, наследное имение, как старую болезнь, с собой несет одно другому поколение …» [1, с. 48]. Симптомами «старой болезни», которой давно страдает правовая система Германии, Шмитт считает такие признаки нормативизма, как:
- абстрактность, анонимность и безличность («Он [Кельзен] избегает всего личностного и сводит правопорядок к безличной значимости безличной нормы» [10, с. 29]);
- отсутствие привязки ко времени и пространству (в отличие от децизионизма: «Децизионистское мышление … позволяет позитивно присоединиться к определенному фактическому моменту времени» [9, с. 333]);
- деление правовых норм на нормы бытия и нормы долженствования (принцип Юма).
Анализируя историко-правовую природу нормативизма в процессе рассмотрения соотношения между ним и нормативным мышлением, Шмитт экстраполирует недостатки первого на природу последнего. Именно на этом основании автор статьи выделяет три положения, характеризующие отношение Шмитта к нормативному мышлению.
- Отношение к признанию закона как источнику нормативного мышления
Судя по тому, как именно Шмитт отзывается о законах в большинстве своих работ, можно предположить его эмоционально-негативное отношение к ним: закон – это «cредоточие всего дурного» [8, с. 53], «обозначение пустой функции» [Там же, с. 64], «понятие, которое увязло в противоречиях между (иудейским) законом и (христианской) милостью, … (понятие), утратившее все возможности содержательного смысла … и выражающее лишь искусственный характер» [Там же, с. 51]. Очевидно, что отрицание закона как источника внутригосударственного и международного права приводит к беззаконию, а значит – и к тем трагическим последствиям, которыми характеризуется история XX века …
- Отношение к нормативному мышлению как неспособности действовать в чрезвычайных обстоятельствах
По мнению Шмитта, норма всегда предполагает некую «нормальную ситуацию» (термин Шмитта), поэтому «правовая норма, установленная в качестве закона, не работает в чрезвычайных ситуациях, когда само существование конституции ставится под сомнение» [11, с. 197]. Иными словами, нормативизм всегда отступает перед политическим децизионизмом при условии принятия сувереном решения о введении чрезвычайного положения.
- Отношение к нормативному мышлению как некорректному пониманию пространственного порядка
«Есть народы, – писал Шмитт, – которые существуют без территории, без государства и без церкви – лишь с «законом»; для них нормативистское мышление предстает как единственно разумное правовое мышление, а любой иной вид мышления – как непонятный, мистический, фантастический или смешной» [9, с. 311]. Отсюда следует, что нормативное мышление не оперирует понятием пространства и пространственного порядка, а это значит, что «законы и правила» формулируются без учета связи между социумом и пространством. Если это так, то политическое пространство «работает по своим понятиям», а воображаемая действительность, которая создается посредством воплощенного в законах нормативного мышления, – по своим. Таким образом, разрыв связи между народом и почвой является прямым следствием нормативного мышления и, по логике Шмитта, неправильного понимания пространственного порядка (главной особенности недочеловека): «Его [jus publicum Europaeum] место на несколько десятилетий занял пустой нормативизм мнимо всеобщих правил, заслонивший от сознания людей тот факт, что в основании признанных на тот момент держав лежал определенный конкретный порядок…» [8, с. 308].
Несмотря на то, что Шмитт был известен как «коронованный юрист Третьего Рейха» (клеймо, от которого ему было сложно избавиться до конца жизни), в его работах нет упоминаний ни о немцах как истинных арийцах и представителях нордической расы, ни о славянах как недочеловеках, которые в отличие от евреев и иных кочевых народов (бедуинов, африканских племен), были привязаны к земле, ни о каких-либо других народах, которые мыслились политическими лидерами Третьего рейха представителями низших рас.
Заключение, или Немного философии…
Предложенная Шмиттом теория о трех видах юридического мышления претендовала не на сиюминутное решение всех проблем отдельного государства, а на нечто большее. Талантливый юрист и философ в одном лице, Шмитт апеллирует к законам бытия (диалектике Гегеля), призывая, с одной стороны, выйти за рамки автономного представления о праве, а, с другой, актуализируя это право лишь в узкой политико-правовой ситуации отдельного народа в определенный период его существования. Можно ли считать такой дуализм взглядов Шмитта недостатком его теории или это наше некорректное восприятие шмиттовских идей? Однозначного ответа на этот вопрос у автора нет. С одной стороны, у каждого из тех, кто с особой тщательностью читает тексты Шмитта, есть объективное право его субъективного прочтения. Интерпретационный ресурс такого прочтения поистине безграничен, а значит и смысловые искажения возможны …С другой, не стоит забывать о том, что его работа «О трех видах» была написана в 1934 г., время, когда нормы и правила, заложенные в Конституции Веймарской республики, не могли спасти последнюю от катастрофы, ибо не соответствовали, если не сказать противоречили, самой политико-правовой жизни социума. Увидев эту проблему ранее других, Шмитт, тем не менее, не решил, а лишь обосновал и описал ее. Что ж … отрицательный опыт тоже опыт, который указывает на то, что «в природе политики не существует никакой универсальной супертеории государства и права, – ни в славном прошлом великих идей, ни на цивилизованном Западе, – способной адекватно описать, кто они такие, в каком государстве живут и какое право осуществляют. Этим всегда в каждой конкретной ситуации придется заниматься им самим, если они не хотят, чтобы их «посчитали» другие» [2, с. 25].
Как ученый Шмитт стоял у истоков разрушения прежнего немецкого порядка, который ассоциировался у него с «вредным» римским правом, «пустым» нормативизмом, «несамостоятельным» позитивизмом и «плюралистическим» парламентаризмом, но отвергнутое им нормативное, а впоследствии и децизионизское мышление не дали нужного, ожидаемого им, синтеза в виде мышления в категориях конкретного порядка, запечатленного лишь несколькими скупыми штрихами на полотне воображаемой и изображаемой им действительности …