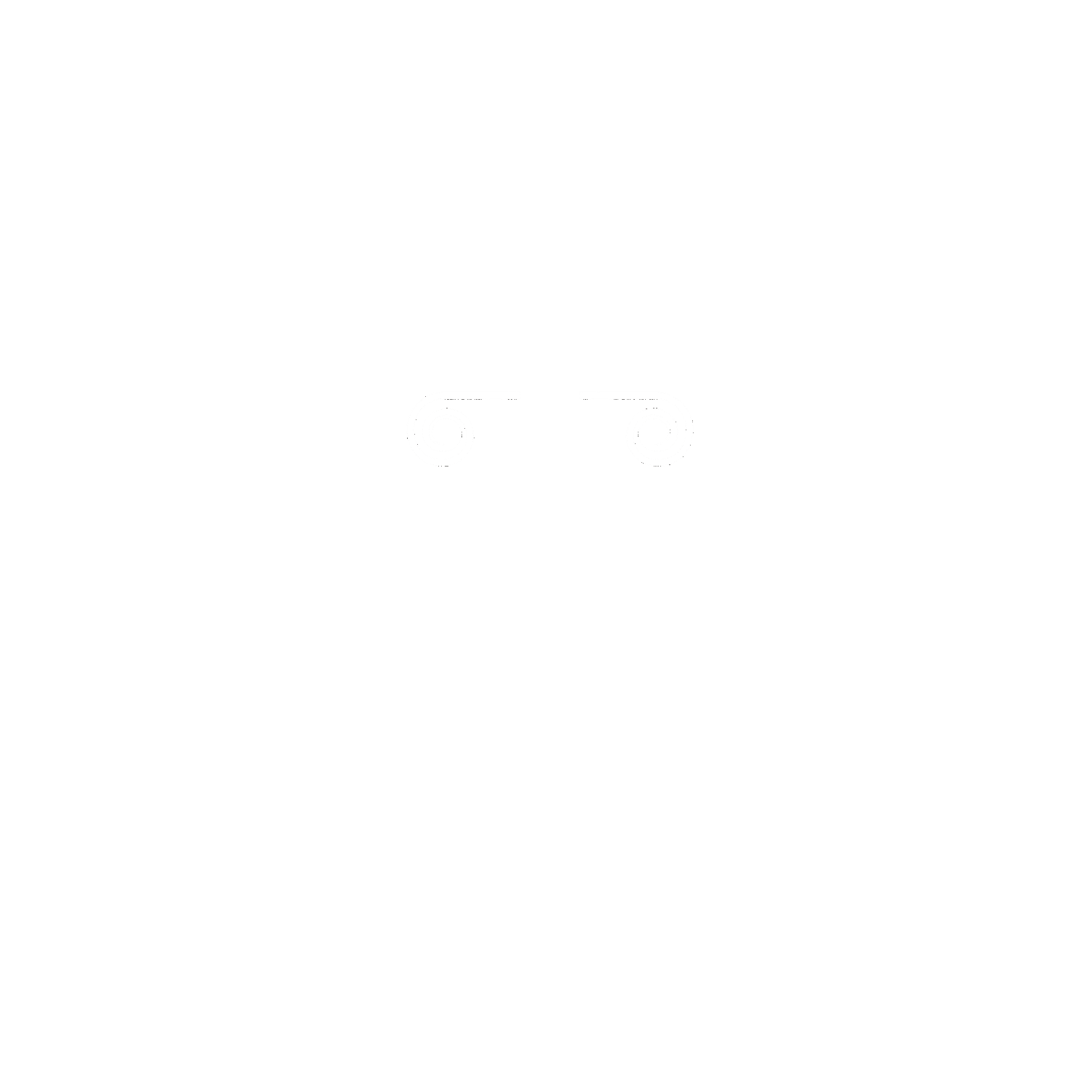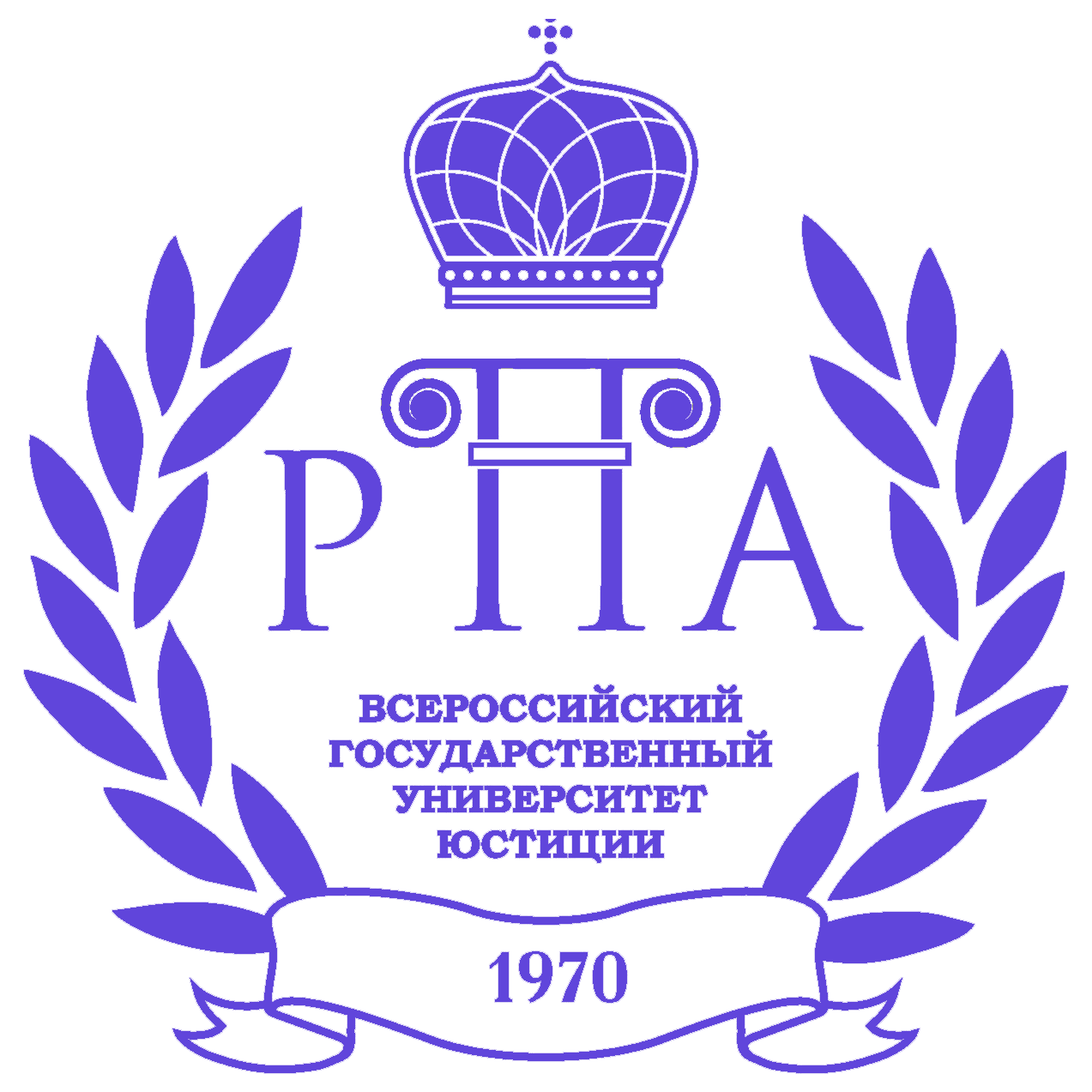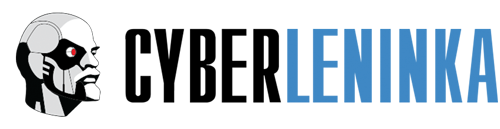Борьба с «немецким засильем» в годы Первой мировой войны, ликвидация немецких коммерческих и общественных организаций на территории Российской империи – достаточно изученная тема в историческом сегменте науки [1–3, 9, 10, 12, 14]. Однако если брать не исторический, а правовой аспект этой темы, мы вынуждены признать, что единого взгляда на вопросы формирования и состава правовой базы так называемого «ликвидационного законодательства» нет [7]. Это вызвано тем, что чрезвычайное законодательство Первой мировой войны в рамках борьбы с «немецким засильем» разбивается как бы на три группы нормативных актов: во-первых, это борьба с иностранным землевладением и землепользованием в России; во-вторых, борьба с иностранным акционерным капиталом и, наконец, в-третьих, борьба с правом владения и управления предприятиями, функционировавшими тогда в России и принадлежавшими на праве частной собственности «вражеским подданным» и «выходцам из враждебных государств».
Необходимость структурировать и свести к единой хронологической линии различные моменты правовой активности российского правительства в отношении подданных враждебных держав в годы Первой мировой войны и вызвала появление настоящей работы.
Отметим, что в годы Первой мировой войны на территории Российской империи действовало два правовых режима.
С введением с 28 июля 1914 г. «военного положения» управление губерниями в 50 губерниях Европейской России, отнесенных к прифронтовой зоне, сосредотачивалось в руках главнокомандующего Русской армии. А все местности России, не находившиеся на военном и осадном положении, согласно Указу от 28 июля 1914 г. «О принятии исключительных мер по охране во всей империи порядка и общественной безопасности», были объявлены на положении «чрезвычайной охраны[1]».
Положение «чрезвычайной охраны» также давало власти широкие права. Прежде всего возросли административные полномочия высших чинов региональной власти – генерал-губернаторов. Отныне они имели право издавать распоряжения по охране общественного порядка и государственной безопасности, устанавливать меры уголовной и административной ответственности за нарушение этих постановлений.
Борьба с «немецким элементом» была актуализирована все тем же Указом Совета Министров Российской империи от 28 июля 1914 г., который установил ограничение правоспособности для физических и юридических лиц, связанных с «воюющими против России странами». Подданные Германии и Австро-Венгрии могли быть высланы как из пределов страны, так и перемещены из пределов одних местностей в другие в принудительном порядке по решению региональных властей. Некоторое имущество иностранных подданных – например, гражданские суда и автомобильный транспорт – реквизировались [4, с. 234–235].
Все прежние привилегии в паспортном режиме и налоговых преференциях, ранее предоставленные договорами России с Германией и Австро-Венгрией были отменены [5, с. 70].
В то же время подчеркивалось, что «мирно занимающиеся трудом австрийцы и германцы» – мужчины старше призывного возраста в 45 лет и женщины любого возраста, могли оставаться на своих местах и пользоваться покровительством российских законов или им разрешалось беспрепятственно выехать за границу через нейтральные страны[2]. Таким образом право на судебную защиту для подданных «враждебных России государств» пока еще не отменялось [12, с. 20].
Вместе с тем, Указ от 28 июля 1914 г. ввел понятие «вражеских» и «невражеских» иностранцев [12, с. 21].
«Вражеских иностранцев» стали ограничивать в гражданских правах. 12 сентября 1914 г. высочайшим указом для них был введен мораторий на перевод векселей в иностранной валюте. 22 сентября 1914 г. было издано положение Совета Министров «Об установлении временных ограничений в отношении приобретения прав на недвижимое имущество, а также заведывание им, подданными государств, которые состоят в положении войны с Россией» [5, с. 70].
По мнению А.М. Тесленко, Указ от 22 сентября 1914 г. хотя и не лишил «вражеских иностранцев» права на судебную защиту, все же ввел правовые основания на лишение их части гражданских прав в отношении владения и наследования недвижимым имуществом.
Так, с 22 сентября 1914 г. подданным «враждебных держав» запрещалось на время войны приобретение земли и любой недвижимости как в собственность, так и в аренду. Старые арендные договоры и права на владения еще не отменялись, так как первое время у российского правительства еще было сильно убеждение, что частная собственность неприкосновенна и что государства не могут произвольно экспроприировать ничье имущество, по крайней мере, безвозмездно.
Действительно, в Своде законов Российской империи 1906 года издания (т. 26, ст. 77) было четко указано: государство гарантирует, что земля и собственность не может быть экспроприирована без справедливой компенсации.
Поскольку конфискация или секвестр собственности влекли за собой крупную по денежным объемам компенсацию, предоставить которую в условиях войны было бы затруднительно, тема изъятия земли из собственности иностранных подданных была убрана из повестки дня.
В то же время главнокомандующий – великий князь Николай Николаевич, пользуясь своими полномочиями, начал в прифронтовой зоне экспроприацию земельных владений немецких подданных. Кроме того, военные к тому времени уже начали высылку российских подданных немецкого происхождения из прифронтовых районов в тыловые районы Российской империи. Но все действия военных властей применялись лишь на территориях, починенных Положению о военном управлении. Более того, военные чаще всего отдавали приказы о секвестре, а не о конфискации. Хотя секвестрованные земли переходили под контроль государства, технически они оставались законной собственностью бывших владельцев, которым они должны были быть возвращены после окончания войны и подписания мирного договора[3].
Тем временем Совет Министров поставил вопрос об ограничении гражданских имущественных прав «враждебных иностранцев» на территории Российской империи, подчиненной режиму «чрезвычайно охраны» [5, с. 70].
15 ноября 1914 г. был издан Указ Совета министров «О некоторых мероприятиях, вызванных военным временем». Были запрещены платеж, выдача, пересылка или перевод денежных сумм, ценных бумаг, благородных и драгоценных камней «неприятельским подданным и учреждениям, находившемся вне пределов России» [5, с. 71].
Кроме того, как отмечает О.В. Ерохина, данным постановлением впервые устанавливался контроль за деятельностью акционерных обществ, учредителями которых были германские или австрийские подданные. В Уставы этих обществ вводился обязательный пункт: «Лица, поддерживающие воюющие с Россией державы, не могут принимать никакого участия в управлении и заведовании делами предприятия и [иметь права на] имущество общества» [5, с. 71].
По мнению О.В. Ерохиной, таким образом нормативно-правовым актом от 15 ноября 1914 г. иностранным предпринимателям запрещалось приобретать акции и паи, выпускаемые акционерными компаниями, а также действовать в собрании акционеров этих обществ. За нарушение правил, установленных Положением от 15 ноября 1914 г., иностранных предпринимателей ждала как уголовная, так и административная ответственность – заключение на срок до 1 года и 4 месяцев и штраф на сумму от 1 000 до 25 000 руб. [5, с. 71].
Тюремный срок грозил за тайный вывоз золота и денежных средств за границу, а штраф полагался за нарушения, связанные с управлением имуществом без вывоза ценностей за границу.
31 декабря 1914 г. были утверждены особые правила о порядке надзора за Акционерными обществами. На этих предприятиях назначался правительственный надзор. Правительственный инспектор должен был вести наблюдение за поступлением и расходованием сумм в целях предотвращения платежей, выдачи, пересылки или перевода денежных сумм, ценных бумаг, драгоценных камней, изделий из вышеназванных материалов подданными враждебных держав. Разрешительной подписью инспектора должны были снабжаться все платежные документы и чеки [5, с. 72].
Сведения о назначении правительственных инспекторов и предприятиях, им подчиненных, публиковались в периодических изданиях «Правительственный вестник» и «Торгово-промышленная газета». В конце 1914 г. таких предприятий было 19; 16 марта 1915 г. к ним добавилось 11; 7 апреля 1915 г. – 23 предприятия; 25 апреля 1915 г. – 16 предприятий; 20 мая 1915 г. – 77 предприятий, а 14 августа 1915 г. – более 200 [5, с. 72].
Однако, на наш взгляд, лишение иностранных подданных прав владения, распоряжения и использования имуществом было окончательно закреплено Указом от 11 января 1915 г.
Указ запрещал выдачу разрешений на торговую или иную деятельность предприятиям с участием в управлении «вражеских подданных» или представителям акционерных предприятий, зарегистрированных по законам воюющих с Россией государств. Такие предприятия подлежали ликвидации до 1 апреля 1915 г.[4]. Срок этот вскоре решением министра финансов от 21 марта 1915 г. был продлен до 1 июля 1915 г.
Принудительная ликвидация фирм осуществлялась по следующей процедуре. Владельцы были обязаны выставить свою фирму на торги или продать заинтересованным лицам в намеченный срок. Если фирма «вражеским подданным» не продавалась, она подлежала ликвидации путем перехода ее в собственность российского государства. Компенсацию за конфискованную собственность должны были выплатить после окончания войны.
Если в состав ликвидируемой фирмы входили российские подданные, они должны были создать ликвидационный комитет, который выкупал доли других совладельцев или пайщиков – «вражеских подданных». Однако при выкупе платежи не шли непосредственно бывшему владельцу, а поступали на специальный счет в Государственном банке, который размораживался только по окончании войны[5].
Другой шаг, направленный на ограничение гражданских прав иностранных подданных – представителей «враждебных держав», был сделан подписанием 2 февраля 1915 г. указа, согласно которому иностранные подданные, представители «враждебных России государств» лишались права на землевладение в России и землепользование.
Указ от 2 февраля 1915 г. вступил в силу на основании ст. 87 Основных законов. В нем содержалось требование уволить всех «вражеских подданных», занимавших административные посты в организациях, владевших землей. Эти меры распространялись на территорию всей империи.
Земли и вообще вся недвижимость «вражеских подданных» за пределами городских поселений должны были быть описаны в двухмесячный срок местными властями, после чего владельцы должны были в определенный период (от шести месяцев до двух лет) продать свое имущество, иначе оно конфисковалось государством.
Кроме того, для иностранных подданных было предписано в течение одного года прекратить все виды арендных отношений (официальных или неофициальных). Таким образом, и земли, принадлежавшие обществам и фирмам, «учрежденным по законам неприятельских государств», и товариществам, в которых хотя бы один из акционеров или пайщиков был «вражеским подданным», должны были отчуждаться из собственности их владельцев [5, с. 72].
Наконец, 9 февраля 1915 г., по решению Правительствующего Сената Россия стала единственным воюющим государством, отказавшим вражеским подданным в праве судебной защиты. Это было сделано, чтобы иностранные предприниматели не оспорили решение Совета Министров в суде[6].
Положением Совета Министров от 16 марта 1915 г. был реорганизован инспекторский надзор (действовавший с 1 января 1915 г.). Отныне правительственные инспектора стали подчиняться учрежденному «Особому делопроизводству по правительственному надзору за торгово-промышленными предприятиями» при Министерстве торговли и промышленности. Инспектор с 16 марта 1915 г. контролировал не только финансово-кредитные операции в коммерческой организации, но и принимал на себя административно-распорядительные функции ее директора[7].
Увеличение числа инспекторов и дальнейшая ликвидационная политика привели лишь, к сожалению, к национализации многих фирм и значительному увеличению числа чиновников. Для координации деятельности многочисленных правительственных инспекторов был даже создан совершенно новый отдел Министерства торговли и промышленности.
Дальнейший процесс бюрократизации системы управления в царской России привел к тому, что качество нормативно-правовых актов Российской империи резко снизилось.
Указ Совета министров от 1 июля 1915 г. дал право генерал-губернаторам закрывать акционерные компании, учрежденные по российским законам, если их деятельность наносила ущерб государственным интересам. Новое правило коренным образом меняло принцип, которым ранее руководствовалось в своей «ликвидационной деятельности» российское правительство.
Ранее ликвидационная политика базировалась на нормах международного частного права и закрытию подлежала организация, учрежденная не по российским нормам права, но допущенная к проведению торгово-промышленных операций в Российской империи. По сути, отменялось право допуска на внутренний рынок. То теперь фундаментальный принцип корпоративного права, подразумевавший, что акционерное общество есть юридическое лицо, отделенное от физических лиц – акционеров и владельцев, был полностью отменен. Правительство делегировало генерал-губернаторам право классифицировать общества по национальной принадлежности его участников. На такие «подозрительные фирмы» назначался правительственный инспектор, который и отстранял от руководства предприятия лиц «немецкой национальности». Отныне термин «вражеские иностранцы» был заменен на «враждебных подданных».
В 1915 г. правительственной инспекции были подвергнуты общества, учрежденные по русским законам российскими подданными, но – к несчастью для них – этническими немцами: «Нобель», «Адлер», «Кунст и Альберс», «Киргоф и Ниссен», «Лангеллитье», «Сименс и Гальске», «Сименс и Шуккерт», «Артур Коппель», «Гергардт Гей» и др.[8].
Торговый дом «И. Лангелитье и К» не спасло от преследований то, что с началом войны германский подданный Г.В. Толле вышел из состава правления и передал свои права Е.Е. Лангелитье, которая была российской подданной. Уже 16 февраля 1915 г. счета торгового дома были арестованы, на основании Указа от 1 июля 1915 г. в торговый дом был назначен правительственный инспектор[9].
Торговый дом «Кунст и Альберс» как принадлежавший российским подданным и учрежденный по российским законам, т.е. считавшийся российской компанией, не подлежал ликвидации в соответствии с законом от 11 января 1915 г. Тем не менее, как фирма с участием германского капитала и из-за большого числа немецких служащих «Кунст и Альберс» попала под чрезвычайные мероприятия. Распоряжением Министра финансов над ней был учрежден правительственный надзор[10].
Впоследствии министр внутренних дел Н.А. Маклаков разрешил генерал-губернатору Приамурского края Н.Л. Гондатти вообще прекратить деятельность фирмы и наложить арест на капиталы и доходы. Ликвидацию фирмы предотвратили опасения местной администрации, что полная национализация крупного торгового дома и назначение туда чиновника для управления повлечет за собой уменьшение конкуренции и, как следствие – рост цен. Примеров неэффективности правительственных инспекторов было масса [11, с. 108–111].
Попали под действие чрезвычайных мероприятий и компании, принадлежавшие выходцам из нейтральных государств, например швейцарскому подданному Ю.И. Бринеру, несмотря на то, что он еще в 1890 г. принял российское подданство. Правительственный инспектор был назначен в Торговый дом «Бриннер, Кузнецов и К» и принадлежавшее ему горно-промышленное акционерное общество «Тетюхе». Основанием для этих действий послужила связь акционерного общества «Тетюхе» с германской фирмой «Арон Гирш и сын», которая владела акциями «Тетюхе» [11, с. 111–114].
Действие законов от 11 января и 1 июля 1915 г. испытали на себе, как минимум, 3 054 фирмы [5, с. 73].
Инициатором многих непродуманных и скороспелых мер был министр внутренних дел А.Н. Хвостов. Он являлся одним из главных сторонников всеобъемлющей «борьбы с немецким засильем» и особенно настойчиво добивался распространения этой борьбы на сферу крупной торговли и промышленности. Став заложником «шпиономании», министр настаивал на том, что «вражеские подданные», которым принадлежали лишь доли в российских компаниях, смогли вовлечь в свои сети российских подданных – представителей крупных коммерческих организаций. Взгляды нового министра внутренних дел разделяли все последующие за И.Л. Горемыкиным председатели Совета министров. Особенно активен был Б.В. Штюрмер, болезненно воспринимавший критику в адрес своей немецкой фамилии. Сам Б.В. Штюрмер (с 20 января 1916 по 10 ноября 1916 г. занимавший должность Председателя Совета Министров России), как известно, принял православие и состоял в «Русском собрании» и «Русском окраинном обществе», а в 1915 году был избран почётным членом Отечественного патриотического союза.
Результатом деятельности лиц, группировавшихся вокруг псевдопатриотических монархических организаций, стал Указ от 5 ноября 1915 г. «О предоставлении некоторым категориям неприятельских подданных прав на судебную защиту», благодаря которому в Свод законов Российской империи была внесена замечательная законодательная новелла: «Те германские, австрийские подданные славянского, французского и итальянского происхождения, а также турецкие и болгарские подданные православного вероисповедания, которые оставлены в местах постоянного их жительства в Империи военными и гражданскими властями, пользуются правом на судебную защиту, предоставленную по законам подданным иностранных государств» [13, с. 24].
В результате этой новации чуть более половины (1 665) иностранных фирм были исключены из действия закона благодаря славянской, французской или итальянской национальности германских и австрийских подданных из числа их совладельцев, а также по причине православного христианского вероисповедания[11].
Давление на лиц, публично не отказавшихся от своих немецких корней и лютеранского или католического вероисповедания, усилилось и 13 декабря 1915 г. был издан Закон «О некоторых изменениях и дополнениях узаконений от 2 февраля 1915 г. о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россией держав, а также австрийских, венгерских или германских выходцев». Не только у иностранных подданных, но и российских подданных немецкого происхождения отныне конфисковалась недвижимость (дома, земельные участки), сельскохозяйственный инвентарь [5, с. 76].
Указ касался российских подданных немецкого происхождения. Лица из бывших австрийских, германских и венгерских подданных, принявшие российское подданство после 1 января 1880 г., должны были в срок (от шести месяцев до двух лет) продать свое имущество. Основанием для уклонения от репрессий опять же могли быть славянские корни землевладельца или его религиозные воззрения.
Указ 17 декабря 1915 года распространил репрессивную кампанию и на крупные промышленные предприятия. Положения нового узаконения были схожи с указом 11 января, но уже не давали фирме возможности избегнуть ликвидации, уволив вражеских подданных. «Временная администрация» вводилась генерал-губернатором на все предприятия, на которых были русско-подданные немцы. Если в дальнейшем принималось решение перейти к ликвидации, то «временная администрация» преобразовывалась в «ликвидационный комитет» [12, с. 99].
С момента публикации указа 17 декабря 1915 г. и вплоть до Февральской революции ликвидационная кампания продолжала набирать обороты. Ликвидационные комитеты были созданы на 460 крупных промышленных предприятиях России [5, с. 79].
В целом, в течение Первой мировой войны правительственные инспектора были назначены более чем на 3 тыс. предприятий, большая часть которых была основана по российским законам и имела, по сути, российский же административный персонал. Министерство торговли и промышленности могло направить инспекторов практически на любое предприятие, где предполагалось хотя бы малейшее участие «враждебных подданных», то есть лиц, связанных посредством кредитных или торговых отношений с гражданами или коммерческими организациями враждебных России стран. Беда состояла в том, что международная кооперация накануне 1914 г. была очень сильная и в антигосударственной деятельности можно было подозревать всех крупных предпринимателей, так или иначе связанных с иностранным кредитом и закупками там техники. И конечно государственные представители – правительственные инспектора благодаря непродуманности Указа от 16 марта 1915 г. были заинтересованы в ускорении ликвидационных процедур, в результате которых они получали функции управления предприятием, хотя это порой было губительным для производства.
Окончательнае реорганизация ликвидационного законодательства в отношении акционерных обществ была проведена правительством по Указу от 7 февраля 1917 г. о ликвидации акционерного капитала подданных враждебных государств. Согласно этому нормативному акту, 2/3 акций, ранее принадлежавших вражеским подданным, переходили под контроль городского самоуправления, а оставшаяся треть – в распоряжение Государственного казначейства [6, с. 122-123].
Были созданы дискриминационные методы определения цены, выплачиваемой прежним владельцам. Так, компенсационная цена устанавливалась в соответствии с годовым балансовым отчетом, утвержденным последним предвоенным общим собранием акционеров. В то же время инфляция и существенное обесценивание рубля в 1916 году и – особенно – в 1917 году гарантировали, что компенсация была гораздо ниже текущей стоимости акций предприятия [6, с. 124].
Всего таким способом было изъято иностранного акционерного капитала на сумму свыше 50 млн. руб. по довоенному курсу [5, с. 77].
В то же время при Временном правительстве произошёл отказ от преследования предпринимателей по национальному признаку. Так, 11 марта 1917 г. правительство издало указ «О приостановлении исполнения узаконений о землевладении и землепользовании австрийских, венгерских и германских выходцев» [5, с. 79].
Хотя Временное правительство сняло ограничения военного времени с российских подданных немецкого происхождения, оно не собиралось сворачивать репрессивные меры против «вражеских подданных» и их гражданских имущественных прав.
Как мы отмечали, акции «вражеских подданных», были переданы российско-подданным частным лицам или государственным учреждениям. 33 крупных акционерных общества, действовавших в России на основании германских и австрийских уставов, было ликвидированы (национализированы) к ноябрю 1917 г., а 59 сменили состав акционеров на исключительно российских владельцев. В целом 1 839 коммерческих предприятий были ликвидированы российскими властями к ноябрю 1917 г. [4, с. 237].
Таким образом практика ликвидации, секвестра и контроля над «вражескими подданными» стала вполне официальной частью внутренней политики с 1914 по 1917 годы. В этой политике были свои «перегибы», например, с 1 июля 1915 г. по февраль 1917 г. стали ущемлять права не «вражеских подданных», а всех представителей немецкой национальности, не ставших на путь государственного конформизма и не объявивших о своих славянских корнях или православном вероисповедании. Результатом деятельности указов Совета Министров России в 1914-1917 гг. стало то, что тысячи предприятий, включая некоторые самые крупные иностранные компании в России, были переданы под контроль государственных или общественных организаций еще до октябрьской революции 1917 г., что порой неблагоприятно отражалось на управлении предприятием, поскольку не все правительственные инспекторы обладали опытом и талантом организатора производства.